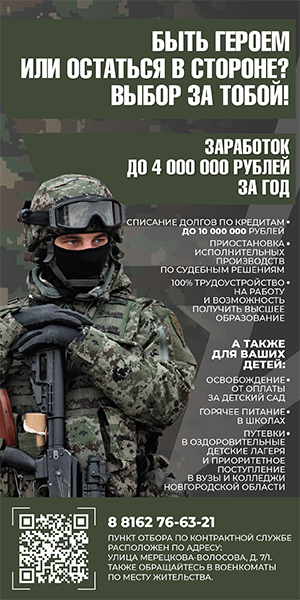Продолжение, начало в № 36
Нас было четверо. Один, мой однофамилец Толя Алексеев, года на два старше, выше ростом, немного болезненного вида, с лицом, как будто ему больше лет, чем на самом деле, с очень быстрой реакцией, с непростым характером: в нём странным образом сочетались и благородство, и ехидство, и злокозненность. Он мог вызывать уважение, но из-за непонятного характера заставлял опасаться. Как-то, много позже, рассказывал, что однажды, собирая поздней осенью под ельником чёрные грузди, наскочил на медведицу с двумя медвежатами. Как со страху влетел на молоденькую ель, мокрую от дождя, и едва на ней держался. Медведица посмотрела на него презрительно и пошла прочь. Ко мне относился уважительно и ни разу не проявил недружественного выпада. У него не было отца, сам рано ушёл из жизни, где-то после пятидесяти.
Другой, Толя Корнеев, старше меня на год, такого же роста и комплекции, из многодетной семьи Корнеевых, насчитывающей четырёх сестёр и трёх братьев. Он – предпоследний. Имел способность к рисованию, чем потом зарабатывал на жизнь.
Третий, Юра Ковалёв, наиболее близкий мне, как бы сейчас сказали, по менталитету, рос без отца, его мать – бывшая учительница. С мальчишеского возраста склонный к полноте. По этой причине получил прозвище Клюква. К моему отцу выказывал особое уважение, в чём я чувствовал, насколько ему не хватает своего отца. Со стороны обоих Анатолиев нередко подвергался насмешкам и издевательствам, которые терпеливо сносил. На самом деле среди нас он был, пожалуй, самый способный и талантливый. Самоучкой неплохо рисовал, даже масляными красками, очень хорошо играл в шахматы. Он меня и научил этой игре, когда я был где-то во втором классе.
На протяжении всей жизни мы не изменяли шахматам. Много лет я приезжал в Оксочи и вечерком, уже у Ковалёва в вагончике, мы со вкусом садились за партию, успевая при этом пропустить по рюмочке. Кроме того, он увлекался поэзией, но в том смысле, что знал много стихов. В 2008 году Юрий тяжело ушёл из жизни после потери обеих ног из-за диабета. Похоронен рядом со своей мамой, Клавдией Михайловной, и женой Татьяной, которую привёз с Дальнего Востока, где служил в армии. Мама его трагически погибла при пожаре в собственном доме, на месте которого Юра поставил строительный вагон, обставленный внутри вполне комфортно.
У Толи Алексеева было прозвище Жобик, у Корнеева Толи – Кореш. Меня называли Василёк, и я к этому привык и относился спокойно. Что нас свело вместе? Скорее всего, близость по возрасту и проживанию. Только Ковалёв жил дальше, в Мужилове, а мы трое – недалеко от кладбища, находящегося в центре села. Из нас четверых ближе друг к другу были Ковалёв и я, а Анатолии – между собою. А ещё у нас была подруга, которая всюду нас сопровождала. Её звали Милка Дуни-барыни. Дуня-барыня была Милкиной бабушкой, а такое прозвище имела не потому, что была барыней, а когда-то была в услужении у неизвестной нам барыни, но, как потом станет понятнее, скорее всего у помещицы Н.П. Полиектовой. Позднее Милка исчезла из нашего поля зрения, скорее всего, уехала в Ленинград.
Как можно было уже заметить, некоторые наши развлечения были не столь уж безобидными и вряд ли могут быть примерами для подражания. Под Рождество ходили, конечно, колядовать, но запомнилось больше другое. Разрисовывали страшные морды с помощью сажи, стучали в окно и выставлялись на обозрение. Как правило, появившиеся в окне хозяева, особенно женщины, а более того – старушки впадали в большой испуг и начинали истово креститься, отпрянув от окна. А нам это доставляло исключительное удовольствие.
Или ещё. Брали полено, за нитку очень осторожно вешали его вдоль оконной рамы на гвоздик, которыми крепится стекло. К другому концу полена привязывалась нитка от целой катушки. После этого уходили подальше, ложились на снег и начинали постукивать поленом по раме, натягивая и отпуская нить. В доме зажигался свет, кто-нибудь появлялся в окне. Мы прекращали стучать. Когда свет выключался, мы опять начинали постукивать... Наконец, из дома выходил мужик и обнаруживал подвешенное полено. Мы срывались наутёк, а вслед неслась нецензурная брань. Были и такие шутки: забирались на крышу и закрывали отверстие дымоходной трубы стеклом. Печка в доме начинала дымить, а причину трудно установить: стекла-то снизу не видно. В общем, хулиганили как могли.
Ватагой ходили купаться на Бартеневский пруд. В Оксочах, при всей прелести окружающей природы, есть один большой недостаток: нет ни приличной реки, ни озера, ни, хотя бы, приличного пруда, где можно было бы искупаться. Маленькие речонки, вроде Оксочки или Грыденки со Смоличенкой, не годились для купания, поэтому ходили на Бартеневский пруд, около деревни Новоселицы. Пруд этот остался от помещичьего поместья, от которого остались камни от фундамента да несколько мощных деревьев, по-видимому, прошлых аллей. Он представлял собой квадратный водоём метров 20 на 20, поросший местами камышами и осокой, и глубиной метра 2. Там находился и плохонький плотик. Приходило туда много ребят от мала до велика. Соревновались, кто пронырнёт весь пруд. Там же играли в карты и загорали. Мне было лет 6. Плавать я ещё не умел. Однажды, перемещаясь на плоту, оступился и упал в воду. Пошёл ко дну. Помню, как в ужасе стал судорожно барахтаться и зацепился за плот. Никто на берегу моей борьбы с водой не заметил, а я, потихоньку, держась за плот, стал грести к берегу и так самостоятельно выбрался.
Другое место для купания находилось на Луке, на Веребенке. Сейчас его уже нет, но в моё время там ещё была полуразрушенная плотина и рядом с ней мельница. В результате подпора плотиной выше неё образовался водоём, где мы и купались. Потом он обмелел, и купались у самой плотины, ныряя в воду с её срубов высотой метра 3. Там же играли в ловитки, выбегая на берег и опять ныряя в воду. Однажды во время такой игры, а это уже было в 1958 году перед отъездом в Кишинёв, я, пробегая по срубу, потерял равновесие и нырнул не прямо, где было глубоко, а вбок, где мелко, и ударился головой о дно. Меня спасло то, что дно у реки было песчаное. У меня отнялись руки и ноги, и я чуть не захлебнулся. В игровом азарте никто не обратил на меня внимания, а я потихоньку на коленях вышел из воды и лёг на берегу. Постепенно ноги и руки отошли, но ещё долго, уже в Кишинёве, у меня болели шейные позвонки, и я с трудом поворачивал голову.
Зимняя пора на развлечения была не менее богата. Это, прежде всего, лыжи. Они у нас просто прирастали к ногам. Чаще всего катались на горе под названием «Наденька». Она находится за Оксочами и представляет собой довольно приличный склон к речке Смоличенке. Там одно место, наиболее высокое и крутое, называлось «Лоб». Когда мы были маленькими, гора казалась очень большой. Особенно страшновато было спускаться со «Лба». Но именно на «Наденьке» разворачивалась игра в «белого медведя». Наиболее захватывающе это происходило, когда нам было уже лет по 10-12. Собиралось до полутора-двух десятков ребят. С помощью расчёта определялся тот, кто будет «белым медведем». Все оставались на горе, а «медведь» спускался вниз. Игра заключалась в том, что «медведь» должен был поймать кого-нибудь, после чего они ловили уже вдвоём, потом втроём и т.д., до тех пор, пока не будет пойман всеми сообща последний.
Кроме игр, занимались прыжками с трамплина: кто дальше. Трамплин строился из снега высотой до метра и более. Чтобы он был прочнее, снег укладывался слоями с прокладками из хвои. На трамплине намечалась лыжня, а потом такая же лыжня направлялась на трамплин с горы. На «Наденьке» с такого трамплина можно было прыгнуть на 6-8 м, у кого как получалось. Однажды, очень постаравшись, я прыгнул так, что сломал сразу обе лыжи, уткнувшись носками в землю.
В том возрасте всё казалось возможным, сопровождалось молодой лихостью и потребностью в риске. Моим достижением, которым горжусь до сих пор и, насколько мне известно, не повторённым никем, является прямой спуск на лыжах с той знаменитой железнодорожной насыпи на Луке, заменившей мост Журавского, высотой 50 м. Высота вроде не так уж и большая, но когда находишься наверху, то впечатление другое, да и спуск там очень крутой. К тому же насыпь сооружена так, что на нижнем основании с отступом воздвигнута вторая её часть, а на ней, опять с отступом, третья. При спуске отступы работают как трамплины, так что после второго, не касаясь земли, пролетаешь метров 15. Под насыпью в то время находился кустарник, по которому проходила тропа, но не прямо, а с поворотом. В нижней части насыпи при выходе на горизонтальную часть трассы скорость движения была такова, что тебя с большой силой прижимало к земле, а лыжи стремились вырваться из-под тебя. Здесь надо было устоять на ногах, не упасть на спину, иначе терялось всякое управление лыжами. А впереди тропа, в которую с этой скоростью надо было вписаться, иначе, влетев в кусты, всё вообще могло закончиться весьма драматично. Спуск был благополучно совершён, но после этого я его не повторял.
Чем ещё запомнились зимы? В новогодние или рождественские праздники проводились «ёлки» то у одних, то у других. У нас дома всегда стояла ёлка под потолок и самая красивая. Выбирать ёлку в лесу было одно удовольствие, поскольку выбор всегда был прекрасный и всего в ста метрах от дома. Набор игрушек тоже был богатый, вплоть до свечек в специальных держателях и деда мороза с мешком за спиной под самой ёлкой. Такие «ёлки» устраивались в разных домах, например, у Ульяновых. Там хозяйками были две сестры, Тамара и Валя. Или у Карчевских. У них было больше девочек. У Шараповых инициатором был Юра, в своей последующей взрослой жизни ставший, насколько мне известно, командиром подводной лодки. «Ёлки» проходили и в других семьях.
Новогодние развлечения этим не ограничивались. Помимо колядок, устраивали катания на санях. Да не просто на санях, а на больших, которые называются дровнями. На них возят дрова из леса. Их обычно уводили с колхозного двора. Большая компания молодёжи затаскивала дровни на гору, чаще это была высокая сторона Оксоч, называемая «Весёлой горкой» и находившаяся по дороге за железнодорожным переездом. Там спуск начинался примерно от дома Громовых и шёл вниз к Оксочке. Тяжёлые широкие на железных полозьях сани набирали разгон, а по дороге на них запрыгивали ребята и девчата. На санях образовывалась целая куча народа, которая со смехом и визгом неслась вниз, по существу, не управляемая. Нередко вся эта куча мала опрокидывалась в сугроб с беспечным хохотом. Бывало, что сани врезались в забор из частокола, тогда выламывались целые проёмы. Всё это происходило в лунные морозные январские ночи и напоминало картинки из гоголевских Диканек.
Лето приносило с собой иные развлечения. Там, где сейчас находится сквер и памятник погибшим в Великой Отечественной войне (41 житель Оксоч не вернулся с войны, 30 награждены орденами Красной Звезды, Отечественной войны I и II степеней), магазин и сельсовет, в моё время была волейбольная площадка. Молодёжи было много, поэтому игра в волейбол была обычным делом. Более взрослые ребята играли очень даже неплохо. Так, например, Леонид Степанов учился в Ленинградском институте физической культуры имени Лесгафта. Играли не только между собой, но ездили и в Веребье играть команда на команду.
Увлекались мы лаптой, играли в городки, в ножички (когда надо было суметь воткнуть перочинный ножик в землю с разных частей тела: головы, носа, губ, подбородка, груди, живота и т.д.). Играли на деньги в пристенок, но особенно азартно – в биту. Битами служили свинцовые лепешки или чугунные осколки.
К осени, когда созревали яблоки, обычным делом было по ночам шарить по чужим садам. У Корнеевых, а потом и у нас были собственные сады с неплохими яблоками, но вот чужой сад всегда был интереснее. Яблоки набивали под рубашку и так ходили по деревне, поедая их, а огрызки зашвыривая куда попало. За яблоками ходили даже в Новоселицы, будто в Оксочах своих мало.
В общем, жизнь молодёжи в деревне никак нельзя было назвать скучной. Живость и изобретательность наши проявлялись и в другом, в частности, в прозвищах, которые получали ребята. На памяти такие прозвища как Витька-машина, Вовка-сопленос, Витька Косой, Васька Петлюра (носил синие галифе), Юрка-клюква, всех уже не припомню.
Василий АЛЕКСЕЕВ
Продолжение следует...