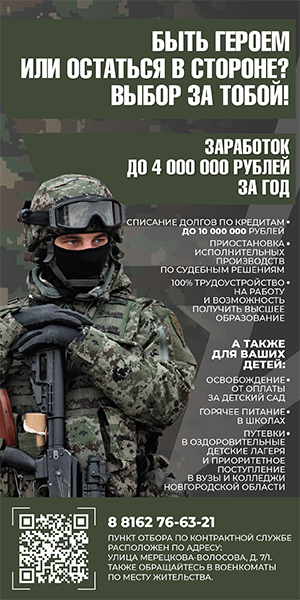Из давнего разговора с Василием Парфинским
4 декабря сего года исполнилось бы 95 лет лет со дня рождения Василия Васильевича Парфинского. Он прожил долгую, трудную, но очень насыщенную и яркую жизнь. Он был человеком увлекающим, увлекающимся, интересным и интересующимся, простым и неоднозначным. Его жизненный путь прекратился три года назад в возрасте без малого 92-х лет от роду. Пестовчане за это время уже забыли его странную сухопарую донкихотскую фигуру, манерный берет с пёрышком, белоснежную бороду и вечные стаи голубей вокруг. Оно и понятно, за три года в жизни и в мире произошло столько событий, что образ чудаковатого старика вполне естественно стёрся из памяти — для того, чтобы уступить место на её скрижалях новым письменам. Так она устроена, память... И хорошо, что именно так. Слишком много пришлось бы таскать нам за собой, слишком многое бы тяготило нас и не давало спокойно жить...
У Василия Васильевича, к сожалению, была очень хорошая память. Её натренировали сталинские лагеря, в которые он сотоварищи угодил по ложному доносу целым мостостроительным отрядом по печально знаменитой 58 статье, пункты 10-11 (Пропаганда или агитация, содержащие призыв к свержению, подрыву или ослаблению Советской власти или к совершению отдельных контрреволюционных преступлений). И о чём бы мы с ним ни говорили: о стихах Бунина, прозе Булгакова, православных святых или тайнах мальтийского креста, разговор так или иначе выруливал на воспоминания о лагере, пайках, доносах и т.д. Впрочем, я уже писал об этом в 2006 году в нескольких номерах и повторяться не хочу. В то время сознательно опустил один из моментов нашего разговора, посчитав слишком тяжёлым. Сейчас мне показалось, что час пробил. И вот я прослушиваю хрипучую плёнку кассеты, переношу на бумагу и давний тот разговор, и особенности речи Василия Парфинского.
« ...Да, бывала и в лагере кровь. Но, Вы знаете, я её вида переносить не мог — сразу впадал в смущение. Почему? Эта история меня давила столь долго, что, как вспомню, то и доселе чувствую тягость. Да-с. Я был подозреваем в убийстве одного из охотников. Представляете, что это?! Никогда Вам не представить. А дело так было. Рядом с телом этого охотника, в кочке, был найден нож. И вот ни с того, ни с сего по поводу этого ножа в один прекрасный день вызвал меня следователь железнодорожной милиции по фамилии Шейко. Я был в то время заместителем начальника путевой части по инженерной работе, сидел в кабинете, занимался чертежами. Телефонный звонок:
– Парфинский?
– Да. А это кто?
– Это Шейко. Слушай, есть один вопросик, можешь заглянуть?
– Сейчас буду.
А от нашей конторы до милиции-то рукой подать. Прихожу. Шейко спрашивает:
– Парфинский, помнишь, охотника Индека убили?
– Как не помнить. А что, нашли убийцу?
– Да, как тебе сказать... Пока вот на месте убийства нож нашли. Выдвигает ящик стола и вынимает огромный ножичище.
– Не твой?!
– Ну, ты, Шейко, даёшь! Ты у меня и более-то изящное оружие видел когда-нибудь? Хоть какое-нибудь?
– Ну, может, знаешь, чей? У ребят, что вместе с тобой работают, не видел?
И стал Шейко засыпать меня вопросами, да какими-то путаными, непростыми, и я в какой-то момент смутился, густо покраснел. Как же стало мне тогда нехорошо!
«Да, Вася, этот разговор тебе даром не пройдёт», – сказал я себе. И действительно, шесть лет я был на подозрении в убийстве Василия Индека, пока не нашли истинного его убийцу. Шесть лет, зная точно, что невиновен, чувствовать на себе осуждающие и ненавидящие взгляды, понимать, что никто тебе не может доверять. Все молчат, но относятся с опаской, как к затаившемуся зверю. А что делать в этой ситуации? Бегать и кричать: «Я ни в чём не виноват»? Мне двадцать с небольшим лет, я из семьи потомственных священников. Мой дед — митрофорный протоиерей, родившийся в середине XIX века, воспитывал меня соответствующе: «Не убий. Не укради. Не лжесвидетельствуй. Береги честь смолоду», и всё в таком духе. Я и поступал так. И молился Богородице, ведь в славный праздник Её введения во Храм я был рождён. Конечно, неблагонадёжен я был для советской власти, но подозрение в убийстве — это совсем другое. Это было выше моих сил. Эти шесть лет я не мог дышать полной грудью, не мог в глаза людям смотреть, зная — они считают, что я кровавый убивец. От этого я смущался, запинался, вёл себя и впрямь, как какой-то преступник! Невыносимо …
Время текло, жизнь — то горка, то яма... И вот, уже на седьмом году моей лагерной жизни, куда нас всем мостоотрядом по политической упрятали, я встречаю бывшего сослуживца по Амурской железной дороге. Ну, понятно, обнялись, перекинулись парой слов. Я ему:
– Вечером ко мне, в сорок второй барак, вторая секция! Посидим, выпьем маленько.
Я-то уже лагерный старожил, у меня уже тогда все «вольняшки» на крючке были. Ну, заказал водки. Принесли. Вот он приходит вечером. Ну, со встречей! Выпили, поговорили: ты как? а как ты? – в таком вот роде. Ну, я ему:
– Я-то отсюда скоро не выберусь.
– А что так?
– Ты что, не помнишь? Васька-то Индек за мной числится. К концу этого срока они мне ещё и за него накинут.
– Да ты что, – кричит он мне, – перекрестись, уже давно нашли истинного убийцу и подозрение с тебя снято.
Ну, я как был, прямо тут и разревелся, никого не стесняясь. А наши-то смотрят и не понимают — за семь лет ни слезы, ни жалобы от меня. Ни тяжкой работой, ни карцером не донять, а тут рыдаю, как малолетний ребёнок. И вот с этой минуты от меня как кора какая-то отвалилась. Как от убийственной коросты освободился, от чего-то липкого отмылся. Перестал меня и красный цвет смущать, и лагерная жизнь не в тягость. Мне говорят: «Вася, ты как с какой-то придурью с того вечера сделался! Ещё не один год по политической срок мотать, а ты жизни радуешься, песни поёшь!»
А я и правда радовался. Политическая-то статья — другое дело. Полстраны тогда сидело по политической. Все знали, что не виноваты, а в кого ни кинь, то «английский шпион», то «немецкий», то террорист, то провокатор. А вот подозрение в лишении человека жизни, того, что только Господь дать и взять может, подозрение в личном смертном грехе — вот это тяжесть-то. Вот это сон тяжкий, бесконечный и беспокойный...
А с Индеком просто дело было. Убил его собрат-охотник. Выстрелили в утку. Она упала. Они навеселе оба. Стали спорить, да делить, кто пристрелил. Поссорились. Ну, тот, второй, ножище Ваське в сердце и засадил. Да жадность сгубила его — ружьишко Васькино с собой прихватил. Через несколько лет решил продать. А номерок-то ружья у органов уже зафиксирован был. И разнарядочка по оружейным магазинам: «Ружьё такого-то номера придержать, о владельце куда нужно сообщить». Взяли его под белы рученьки, а он и отпираться не стал. Видно, и сам уже замучился такой груз носить — во всём сознался. А не ружьецо бы это, не знаю, пережил бы я лагеря, дожил бы до глубокой такой старости? Вряд ли. Думаю, муки бы этой не вынес. Да-с... Кстати, тут от Солженицына письмо получил, да, вот оно. Просит, если остались какие лагерные записи, стихи — прислать. Поможете оформить? Он мне до этого из фонда своего денег прислал. Тоже ведь наш. Политический. И статья та же — пятьдесят восьмая... Какой там — полстраны! Больше сидело».
Беседа состоялась в сентябре 2006 года. Фотография сделана тогда же.
Алексей ВИНОГРАДОВ
Фото автора
Опубликовано 4 декабря №94