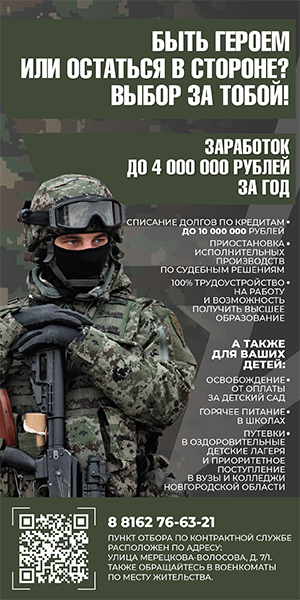Голод, страх и боль вынес Анатолий Прудников из детства. Ребёнок-узник. Что может быть позорнее для нацизма, который кто-то сейчас пытается оправдать.
Вот только ощущение раба не прижилось. Хотя угнанных в неволю детей на каком-то литовском распределительном пункте разбирали по дворам хозяева. Выбирали. Почти, как рабов. Но свободная душа русского человека остаётся в нём неприкаянной и тянется к свету независимо от обстоятельств. И рождается в ней поэзия, как ощущение - может быть света, может быть Бога.
Заполнить пустоту
Анатолий Игнатьевич сейчас живёт в деревне Бор у сына, а родом он со Псковщины, где есть деревня Медведи, в которой жила когда-то папина тётка Федора. У них Медведи, у нас Медведь – названия деревень перекликаются на нашей огромной русской равнине, когда-то и состоящей из множества деревушек и хуторов. Тысячи выжжены войной. Тысячи стёрло время.
- На территории нашего сельсовета, - говорит Анатолий Игнатьевич, - всего две небольшие деревушки остались после освобождения. Всё сгорело. Начиналась война с пожарищ и закончилась на пожарищах. И из всего ужаса, который пришлось пережить, самое ужасное – послевоенная пустота и голод. Если бы отец, однорукий инвалид, сломился духом и не работал, чтобы прокормить семью, мы бы, наверное, умерли.
В доме не было ничего, кроме воды. Ни муки, ни крупы, не говоря уже о хлебе. Я хорошо помню, как мама топила печку. Поставила на блинки котелок с водой и бросила в него два камушка. Сестрёнка моя спрашивает у неё, зачем она эти два камушка туда кинула, а она пожала плечами и говорит: «Я и сама не знаю». Но она положила инстинктивно, надо же хоть что-то бросить в похлёбку из одной только воды. В воде зарождается жизнь.
Когда пришла к нам женщина из сельсовета и сказала, что семье фронтовика полагается буханка хлеба, и нам выдали эту буханку, мама размочила её в воде и сварила колотуху. Знаете, какая это была буханка – размером как 3-4 современных хлеба, и внутри непропечённая. А настоящим чёрным хлебом я отъелся только в армии, спустя месяцев семь с начала службы. Проснулся раз и понял – я сыт. А в армию меня призвали в 50-ом году. Служил три года и четыре месяца: в Орске, Магнитогорске, в Челябинской области. Очень хотелось достойно жить, работать, обеспечивать семью, чтобы родные не знали ни нужды, ни голода, как мы когда-то…Страшное это слово – война…
С Петрова дня
Он смахивает со щеки слезинки. Высокий, статный мужчина, а плачет. Не плачет тот, в ком душа иссохла. А он, мужественный, сильный человек, который возил тяжёлые грузы на больших машинах, не боялся никакого труда - не в силах сдержать слёз при нахлынувших воспоминаниях.
- Нас у родителей было семеро, три брата и четыре дочери. – Рассказывает. – Самая младшая родилась в 41-ом, сейчас в Минске живёт. А маленький братик умер в младенчестве, его война убила. Отец, в ту пору сорокалетний, с большой длинной бородой ходил, почему-то с бородой, не знаю…
По-настоящему мне 87-ой год пошёл, я в 29-ом родился в один день с двоюродной сестрой. А по документам – на год моложе. Как война началась, я хорошо помню. До Петрова дня ходили мы соседскую клубнику воровать, теперь дело прошлое. А наши отступали. Лето сухое стояло, жаркое. Уже после Петрова дня налетела немецкая «Рама» и строчила, строчила по обозам. Мы за банькой стояли, а пули летели, казалось, градом. И в баню попадали. Как нас не убило, не могу понять.
Из деревни своей Осётки ушли мы в урочище, вырыли землянки. Я видел с бугра, как строем шли фашисты. И рукава у них были закатаны. Вспоминаются обстрелы. Как наша семья, бабушка Катерина с сыном, ещё кто-то прятались в погребе. Сидим на картошке, а над нами всё дрожит и ухает. Над погребом стог сена поставлен, рядом рига – всё горело над нами. А у нас, хорошо, ведро воды с собой было, мы тряпки мочили и к лицам прикладывали. Три дня так сидели. Потом Анисья высунулась и видит, что от берёз, которые у входа стояли – одни пни. И немцы стали нас вытаскивать. Всех вытащили, повели куда-то. Вижу траншеи. В них под брезентом – погибшие немцы штабелями уложены. Почём было знать, убивать нас ведут или куда. Два молоденьких фрица карабинами показали, чтоб шли вперёд. Мы шли. За нами – подчистую сгоревшая наша деревня. Впереди – равнина. И всё кругом рвалось, ночью от взрывов – хоть иголки собирай.
У хозяина
В Медведях жили немцы. Мы хорошую землянку вырыли себе, в два наката, а они отобрали, понравилась видно. А потом погнали в плен. Семью нашу разделили. Сначала мы, мальчишки, с отцом должны были идти пешком на станцию, а мама с девочками и братиком – на машинах ехать, но потом как-то получилось, что папа с ними остался, а мы с братом Сашей и тётка Федора с семьёй дошли до железки и нас погрузили в товарный вагон. Ехали в Прибалтику. По дороге останавливались и нас выпускали на маленьких станциях просить милостыню. Когда прибыли в литовский город Тавроген, поместили в пересыльный пункт, где всем делали дезинфекцию. Приходили покупатели, литовцы, выбирали себе работников. Один человек меня и брата выбрал, но брат упёрся и сказал, что без бабушки не пойдёт. Тогда он и бабушку с собой взял.
Попали мы в деревню Шилуте, что стояла в тридцати трёх километрах от Таврогена. До сих пор помню, хозяина звали Антанас, жену его – Юдеке. Двое сыновей у них было, Феликс и маленький Петрис. А сам хозяин «петрил» немного по-русски и научил меня литовскому языку. Я в те годы, с уверенностью могу сказать, знал литовский на пять с плюсом, а когда наши пришли, был у них за переводчика.
Хозяйство у литовцев было большое: четыре коровы, две лошади, штук десять свиней и много разной домашней птицы. Помню каких-то маленьких петушков, очень задиристых. Я свиней кормил, поил лошадей. Воду на коромысле носил из родничка за косогором. Метров двести до того родничка – раз двадцать пять…Коров выгонял на пастбище, траву косил, пахал с хозяином землю, даже плугом управлял. А ещё торф для топки печей заготавливал, дрова-то они экономили. Но это долгая процедура, вручную брикеты делать. Дважды нас с братом хотели увезти в Германию, но в первый раз забраковали, а во второй мы из эшелона сбежали и дали тягу назад. Долго шли пешком, через речку переплывали, но до деревни дошли, и хозяева нас обратно взяли.
Помню, почему-то было очень много вшей везде, спать невозможно. Мы их с матрацев, с одеял метёлкой спахивали. Даже не представить сейчас, как же это могли они так расплодиться…
Непредставимая война
Как нас освободили? Сначала немцы пришли. Однажды домой забегаю, а там полный дом фашистов, а хозяева выгнаны, в сарае сидят. Они Антанаса с собой хотели забрать, но что-то не сложилось. Погрузили мы на бричку скарб и поехали на хутор. Там жилья не было, только скотный двор и склады. И через несколько дней вышел я на дорогу и вижу – двое верховых едут по ней. Пригляделся – наши! Я им сказал, где немцы стоят, и через некоторое время пошли по тракту советские танки.
Папа на фронте был. Сколько он повоевал, не знаю, но стался без правой руки. Мы уже там знали, что жив отец, а что с мамой и сёстрами – не ведали. Мне один наш майор сказал, чтобы я домой письмо написал, а я почему-то адреса не мог составить. И всё-таки наш треугольник попал по назначению, и батя за нами приехал.
Конечно, я не могу пересказать всего того, о чём услышала от Анатолия Игнатьевича, жизнь-то у него долгая. Но военное детство стоит всей жизни. Потому что они, мальчики и девочки из грозовых сороковых, стали взрослыми много раньше нас. Их память хранит такое, что нам непредставимо. А они не в силах понять, как можно оправдывать фашизм, у кого на это хватает совести, да и селится ли совесть в беспамятных. Старые солдаты, вдовы и такие вот малолетние узники плачут и не спят ночами не столько от безжалостных воспоминаний, сколько от мыслей, от ощущения, что нацизм до сих пор существует. Эта чума затмевает не одни лишь умы и души, она оскверняет память. Простить такое они, выжившие в аду, не могут.
Буханка хлеба, как три-четыре современных. Суп из щавеля. Мороженая картошка. Лепёшка из мха и два камушка в котелке с водой – то, что давало людям сил бороться. Не великие идеи и подвиги, а два камушка, заменившие хлеб…И вера. В этом единственно заключается правда. А подвиг – это вся жизнь поколения, к которому они принадлежат.
Татьяна КОЗЛОВСКАЯ
Фото автора
Опубликовано в газете 8 мая